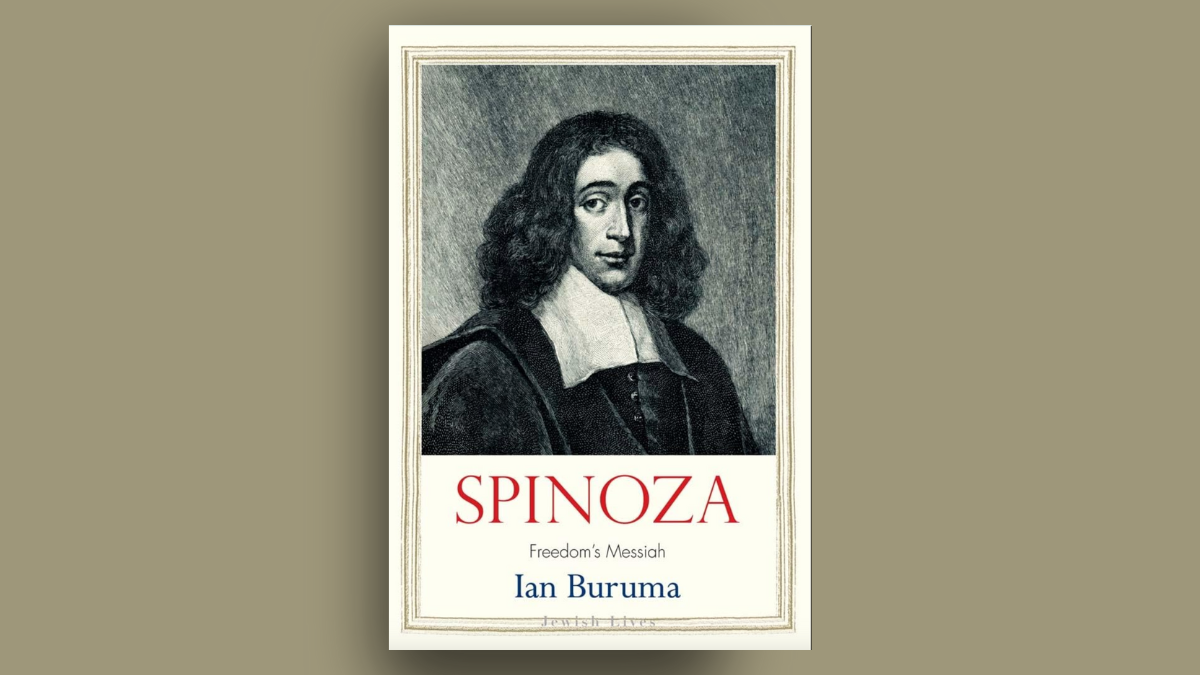Я стал твоим врагом, потому, что говорю тебе правду.
“Свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать”. А. Камю
“Можно обманывать часть народа всё время, и весь народ – некоторое время, но нельзя обманывать весь народ всё время”. А. Линкольн.
По счастливому стечению обстоятельств, в ноябре прошлого года я оказался в Амстердаме в ту ночь, когда там начался погром.
Моя шестичасовая остановка совпала с футбольным матчем между «Маккаби» (Тель-Авив) и «Аякс» (Амстердам), после которого североафриканские иммигранты выследили и жестоко избили израильских болельщиков. Я был в безопасности в аэропорту во время самого страшного нападения, но jodenjacht, или «охота на евреев», как её радостно называли её исполнители, привела к жестокому избиению десятков болельщиков и госпитализации по меньшей мере десяти. Мусульманская молодежь заставляла еврейских болельщиков «Маккаби» укрываться в отелях, ресторанах и даже в знаменитых каналах города, и всё это под неумолимый саундтрек «Free Palestine» и « kankerjoden », или «раковых евреев».
Невероятно, но в городе, где около 80 лет назад нацисты преследовали Анну Франк и её семью, а также десятки тысяч других евреев, гнойная язва антисемитизма снова дала метастазы.
Но Амстердам не всегда был враждебным местом для евреев, как изящно демонстрирует Ян Бурума в своей краткой, захватывающей биографии Баруха/Бенедикта Спинозы, Барух Спиноза: Мессия свободы. Противоречивая фигура с глубокими учениями о человеческой свободе и процветании, идеи Спинозы могли укорениться только в такой уникальной политической и религиозной среде, как Голландия XVII века. «Свобода мысли была его главной заботой», — пишет Бурума, писатель и профессор Бард-колледжа, родившийся в Голландии, о своей теме. «Он не только считал, что лучший политический порядок — это тот, который защищает право думать и писать в мире, но и что эта самая свобода поможет поддерживать такой порядок».
Действительно, город — который на протяжении столетий был известен евреям просто как Мокум, или место — и Голландия в целом, когда-то был маяком религиозной свободы, который приветствовал десятки тысяч испанских и португальских изгнанников после изгнания. Евреи Амстердама процветали на протяжении столетий в либеральной Голландской республике и платили за благосклонность тем же. «Мы больше не смотрим на Кастилию и Португалию, а на Голландию как на наше отечество», — провозгласил раввин португальской синагоги Амстердама в 1642 году. «Поэтому никто не должен удивляться, что мы будем ежедневно молиться за Их Превосходительства Генеральные Штаты… а также за благородных губернаторов этого всемирно известного города».
Но религиозная свобода не всегда означала религиозную гармонию, и Голландия XVII века была раздираема конфессиональными дрязгами по поводу тонкостей кальвинистской доктрины. Еврейская община также была разделена, по крайней мере частично, по этническим и ритуальным признакам, причём богатые сефарды временами господствовали над более бедными ашкеназами.
Эти разделения перешли в различные религиозные диспуты, включая прелюдию к contretemps Спинозы. В 1620-х годах Уриэль да Коста, потомок португальских конверсос, вернулся в иудаизм в Амстердаме, но оказался в хереме — отлучении — после публикации книги, которая подвергала сомнению бессмертие души. Бурума считает, что еврейская община чувствовала себя обязанной христианским властям, по милости которых они процветали, искореняя ереси даже в своей собственной вере. «Теперь они должны были быть идеальными евреями», — пишет он, даже за счёт несогласных единоверцев, таких как униженный да Коста, который покончил с собой в 1640 году.
Менее чем за десять лет до этого Барух Спиноза родился в богатой семье португальских еврейских иммигрантов, которые ранее обратились в христианство под давлением. В начале двадцати лет, во время учёбы в ешиве, он покинул пределы учреждений приходской еврейской общины Амстердама ради культурных и интеллектуальных наслаждений города. Он подружился с Франциском ван ден Энденом, бывшим иезуитом, который писал стихи, ставил пьесы и продавал произведения искусства.
Его столкновение с идеями, окружавшими его, привело к тому, что он стал задавать вопросы своим собеседникам в ешиве, в первую очередь раввину Саулу Леви Мортейре. Как и да Коста, он сомневался в бессмертии души, утверждая дополнительно, что писание не провозглашает однозначно бестелесность Б-га. К 1656 году старейшины были сыты по горло: «С судом ангелов и судом святых», — объявили они на публичной церемонии, — «мы ставим под херем, подвергаем остракизму, проклинаем и осуждаем Баруха де Эспиносу… Ярость и ревность Господа воспылают против этого человека и навлекут на него все проклятия, написанные в этой книге закона».
На тот момент Барух Спиноза ещё ничего не опубликовал, но вскоре после запрета он написал в своём « Кратком трактате о Б-ге, человеке и его благополучии», что мыслящий человек может быть свободен, «непосредственно соединяя свой интеллект с Б-гом», которого он приравнивал к природе — само по себе подстрекательское предложение как для евреев, так и для христиан. Он объявил о своей личной свободе, уехав в 1661 году из Амстердама в тихую деревню Рейнсбург, где занялся шлифовкой стекла для линз, чтобы прокормить себя.
В течение следующих нескольких лет Спиноза написал свои самые выдающиеся работы, включая « Теолого-политический трактат», в котором он объяснил, что «отделение веры от философии было главной целью всей этой работы». Выступая за гражданскую религию, которую могли бы поддерживать люди всех вероисповеданий, он открыто критиковал еврейский народ, тем самым ещё больше отдаляя себя от своей прежней общины. Евреи, писал он, «не имели абсолютно ничего, что они могли бы приписать себе, кроме всех народов», и, что ещё хуже, они «отделились от всех народов настолько, что навлекли на себя ненависть всех людей». (Несмотря на очевидный отход Спинозы от иудаизма, Бурума настаивает, что «нет никаких доказательств того, что обращение в христианство в какой-либо форме когда-либо искушало его»).
Барух Спиноза, который позже сбежал в Гаагу, считал себя счастливчиком, проживая в государстве, которое так глубоко уважало свободу вероисповедания и он не стеснялся выражать свою признательность тем, кто сделал это возможным. «Нам повезло, — писал он в «Трактате», — что мы живём в республике, в которой каждому предоставлена полная свобода суждения и разрешено поклоняться Б-гу в соответствии с его менталитетом». Тем не менее, либеральные взгляды Спинозы были достаточно спорными среди ортодоксальных кальвинистов — особенно после возрождения оранжистов 1672 года — что ему пришлось опубликовать этот основополагающий труд под псевдонимом и только на латыни, а не на голландском языке.
Не смутившись, он продолжил свою интеллектуальную кампанию за свободу в 1675 году в своей «Этике», возможно, самом долговечном его философском наследии. «Свободный человек», — писал он, — «то есть тот, кто живёт согласно одному лишь велению разума, не ведом Страхом, но желает добра». Тот же рациональный импульс, который мотивирует индивидуума, утверждал Спиноза, также побуждает хорошо организованное политическое сообщество к общему благу. Однако книга была опубликована только после его смерти, в 1677 году, в возрасте 44 лет.
На протяжении многих лет либеральное наследие Спинозы было востребовано многими мыслителями и движениями в политических, культурных и религиозных спектрах. Маркс считал его, по Буруме, «пророком социальных преобразований», в то время как Фрейд считал его «человеком, который искал спасения через самопознание». Сионисты, такие как Давид Бен Гурион и Моше Гесс, провозглашали его протосионизм, в то время как писатели, начиная от Вордсворта и Гете и заканчивая Гейне, восхваляли его натурализм. Даже Эйнштейн, после разрушений Второй мировой войны, восхвалял его стойкое сопротивление «страху, ненависти и злобе».
Идеи Спинозы особенно сильно разветвляются сегодня, когда мировые и национальные сообщества снова оказываются расколотыми подозрениями и враждой. Возрождение интереса к спинозовской традиции особенно актуально сейчас, утверждает Бурума, поскольку «либеральное мышление подвергается сомнению со многих сторон, где идеологии все больше укореняются, как со стороны фанатичных реакционеров, так и со стороны прогрессистов, которые считают, что не может быть никаких отклонений от выбранного ими пути к справедливости».
Постмодернизм, пробуждение, альтернативные факты и идеологическое соответствие пронизывают современный дискурс и угрожают свободе в её самой элементарной форме. Напротив, свобода, правда, целостность — все ценности, подвергшиеся нападкам во время амстердамского погрома и в западном мире в целом — требуют тщательного, усердного культивирования. Как искусно и страстно призывает Бурума, нам было бы неплохо пересмотреть творчество Спинозы для такого вдохновения.
Подпишитесь на группу “Израиль от Нила до Евфрата” в Телеграм
По теме:
Д-р Вернон Коулман: Наша свобода ушла – возможно, навсегда
Д-р Роберт Йохо. Интервью: Терин Грегсон из FAITHFUL FREEDOM “Вера, Семья, Здоровье, Правда и Свобода”
Всё, что необходимо для триумфа Зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.
ХОТИТЕ ЗНАТЬ НА СКОЛЬКО ПЛОХА ВАША ПАРТИЯ ИНЪЕКЦИЙ ПРОТИВ ГРИППА ФАУЧИ (Covid-19) – пройдите по этой ссылке и УЗНАЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Пропустить день, пропустить многое. Подпишитесь на рассылку новостей на сайте worldgnisrael.com .Читайте главные мировые новости дня. Это бесплатно.
ВИДЕО: МНЕ НУЖНА МОЯ СВОБОДА
Кредит изображения Издательство Йельского университета
Михаэль Лойман / Michael Loyman